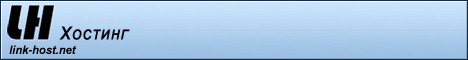[Опубликовано в журнале:
«Новый Мир» 1999, №12
ФИЛОСОФИЯ. ИСТОРИЯ. ПОЛИТИКА
Алексей Туробов
Америка каждый день
Записки натуралиста
версия для печати (5344) -> {{{{{{.}}}}}}
Иоанн Лествичник. Лествица. ((((((((())))))))))))
Тарковский Андрей - МАРТИРОЛОГ (отрывки из запрещенного дневника) (((((((((((((((((((((((
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ
*
АМЕРИКА ДАЛЕКАЯ И БЛИЗКАЯ
У отстающих есть преимущество
Далекая ли страна Америка (в том смысле, что чужая) или, наоборот, близкая? Не так просто ответить на этот вопрос, хотя отвечать нужно: денно и нощно она не устает рассказывать о себе всеми возможными средствами, и мы, хотим того или не хотим, внимаем ей, кто вполуха, а кто, как говорится, развесив уши.
-----------
Автоматический скроллинг - просто наведите мышь на значок в правом нижнем углу: 
Переход внутрь раздела - надпись "upL" (up level)
----------
Можно поставить вопрос резче: не станет ли Россия другой Америкой? Полагаю, ничего неожиданного в такой постановке нет. Если уж Европа (как сыздавна говорили у нас, имея в виду Западную Европу) становится все более похожей на Америку, почему бы и России не последовать ее примеру?1 Да и следуем уже: наши вкусы, воззрения, стили поведения все больше определяются тем, что приходит из-за океана. Особенно это относится к молодым возрастам. Флюиды американизма вездесущи, притом что далеко не всегда опознаются как таковые; многое из того, что является американским по происхождению, воспринимается просто как “современное”, не имеющее изначального клейма “Made in...”. На самом деле клеймо когда-то стояло, но стерлось от долгого употребления.
Относительно Европы могут возразить, что Америка — это ее отпрыск, что вместе они образуют то, что называется Западом, тогда как у России — особенная стать. Отчасти это, конечно, верно. Но с другой стороны, есть вещи, которые сближают Америку и Россию супротив “старушки” Европы. Еще И. Киреевский назвал русских и американцев народами, которые перенимают “новую европейскую образованность” (просвещенческого и послепросвещенческого толка) оторванною от ее корней. “Новое просвещение, — считал Киреевский, — противоположно старому и существует самобытно. Потому народ, начинающий образовываться, может заимствовать его прямо и водворить у себя без предыдущего, непосредственно применяя его к своему настоящему быту. Вот почему и в России и в Америке просвещение начало приметно распространяться не прежде восьмнадцатого и особенно в девятнадцатом веке”2. То есть русских и американцев, согласно Киреевскому, объединяет то, что они берут у Европы плоды просвещения как бы сорванными с древа, на коем те созревали.
Относительно Америки сегодня надлежит сделать некоторые уточнения. Да, просвещенческие идеи до некоторой степени создали Америку, какою мы ее знаем. Был один такой прекрасный день — собрались пятьдесят пять “философов” в Городе Братской Любви (Филадельфии) и вместе начертили план здания, именуемого Американской демократией. По сю пору незыблемого. Надо, однако, учитывать то, что “философы” были движимы не одними только идеями, в основном французского происхождения; за плечами у них был опыт свободы, вынесенный еще из Англии: там, на “старой родине”, складывались некоторые навыки, пригодившиеся в Новом Свете.
Тем не менее определенный отрыв от европейских корней действительно имел место в Америке. Он начался уже тогда, когда первые поселения стали возникать на диком берегу Массачусетского залива: весь строй жизни в них зиждился на религиозном, сектантском по сути, мировоззрении, так мало связанном с исторической почвой, как это не было возможно нигде в Европе (быть может, за исключением кальвинистской Женевы). Усвоение идей Просвещения лишь усилило эту относительную беспочвенность американской жизни. Nota bene: беспочвенность историческую, но не онтологическую. Ни разу американцы не прельстились по-настоящему моделью какого-то уморожденного совершенного общества, наподобие свифтовской Лапуты парящей в воздухе и нисходящей на грешную землю.
А что же Россия? 1917 год как будто еще больше сблизил ее с Америкой. В результате революции страна резко порвала со своим прошлым и на всех парах устремилась в будущее, светлое или не очень, это уж кто как смотрел. Футуризм в широком смысле слова отличал не одних только большевиков; пожалуй, он стал преобладающей чертой 20-х годов. В конце XVIII века Америку называли “опытным полем” Европы. Теперь “опытным полем”, хоть и на иной лад, становилась Россия. Не помнящие родства “советские люди”, которых революционная наседка, казалось, только-только под крапивой вывела, строили “новую жизнь”, порешив начать с чистого листа — почти как американские “пилигримы” тремястами годами ранее. Да и с учетом американского опыта, а именно его инженерной части. Такие влиятельные течения, как лефовцы или конструктивисты, до некоторой степени и сами большевики полагали, что Америка явила пример того, как следует рационализировать человеческое бытие, включая сюда и быт.
Один принципиальный дефект объединял все варианты советского “проекта” — онтологическая безосновность. В этом было их радикальное отличие от американского “проекта”.
В 30-х годах вдруг заговорили “почва и судьба” — только каким-то бессвязным, сбивчивым шепотком, едва ли не утробным урчанием. Наступила реакция: за трескотнею о “строительстве коммунизма” обозначилась конкретная цель — построение новой, модернизированно-архаизированной империи. По-своему была восстановлена “преемственность” в плане культуры: “старая” русская культура вновь вошла в некоторую силу, хотя и в сильно усеченном, чтобы не сказать изуродованном, виде.
В то же время на протяжении всего советского периода продолжалось вываривание крестьянской массы в городском котле, что вело к быстрому изживанию еще сохранившихся традиций и бытовых привычек (в Европе переход крестьянства к городскому образу жизни был гораздо более градуальным, плавным; не говорю уж о том, что ни в одной европейской стране не было совершенно погублено дворянское сословие). Россия была пропущена через среднюю школу, в чем, конечно, есть свое благо, но разрыв с живыми традициями породил чрезмерный рационализм, в определенном аспекте представляющий шаг назад в сравнении с онтологическим мышлением, свойственным прежним аграрным сословиям. Пережив крах идеологии, с которой он был связан, этот рационализм сохраняется как стиль или модальность мышления. Чем более “продвинутым” выглядит сегодня россиянин, тем скорее он “строит жизнь” по книжке или сообразуясь с телевизионным уроком (хотя, конечно, во многих случаях необходимость в книжках или телевизионных уроках объясняется не только слабостью традиций или полным исчезновением их, но и высокой степенью новизны некоторых современных сфер деятельности). В этом отношении он близок американцу. Только последний выбирает свои (национальные) книжки и телевизионные уроки, а россиянин — преимущественно американские. Не говорю уж о том, что почти каждый ребенок смотрит по телику американские мультики, почти каждый молодой человек ходит в дискотеку, где получает “воспитание чувств” по-американски, и т. д. Так будет ли удивительно, если “кузина” Россия уподобится Америке еще больше, нежели ее “родная сестра” Европа?
Часто приходится слышать, что Россия в любом случае останется Россией. Такое утверждение далеко не бесспорно. Да и что, собственно, оно означает? Историческая Россия — разная. И дыхание “почвы и судьбы” — это, так сказать, не вполне чистое дыхание, в нем слишком много от смертной природы, от того, что было в истории недужного и порченого. Лишь сознательно выборочное отношение к национальному наследию, лишь творческое развитие того, что развития достойно, позволит “не потерять себя” на открывающихся впереди путях-дорогах.
Мы как народ занялись теперь самопознанием, особенно жадным оттого, что оно было прервано на долгие десятилетия, из которых мы вышли во многом иными, чем были прежде. Самопознание естественным образом включает соотнесение себя с другими народами, в первую очередь с тем, чье присутствие мы ощущаем повсеместно и повсечасно, — с американцами. В предстоящие годы национальное самоопределение в большой мере будет самоопределением по отношению к американцам.
Кстати говоря, обостренное стремление к национальному самоопределению (или самоидентификации, как теперь принято говорить), всегда свойственное русским, — еще одна черта, сближающая наши два народа. Оно мало заметно, например, у англичан или французов. Напротив, американцы постоянно вопрошают сами себя: “Кто мы такие?” и “Куда идем?”3. Правда, основания для такого рода озадаченности или, если угодно, мнительности несколько различаются. У русских это прежде всего прочего психологическая раздвоенность между византийским наследием и увлекающим в своем беге Западом. У американцев другое: по многим признакам они бегут впереди, и смущает их порою как раз то, что они ушли в отрыв от остальных.
Генри Миллер нашел даже (в беседе с французским журналистом Ж. Сюффером), что гоголевский образ птицы-тройки больше подходит Америке, чем России. В том смысле, что уж очень шибко эта страна (Америка) несется, не ведая куда.
У отстающих есть, однако, свое преимущество: они могут не повторять ошибок предшественников. Естественно, что для этого ошибки должны быть осознаны как таковые.
Чем лучше мы будем понимать американцев, тем скорее познаем себя и тем точнее найдем свое место в мире. Надо равно отвергнуть старые предубеждения и новые обманы, относящиеся к нашим соседям в западном полушарии. Нынешняя Россия, подурневшая и обносившаяся, склонна занимать крайние позиции в отношении своей гораздо более благополучной соперницы: или чурается ее, угрюмо замыкаясь в себе, или, наоборот, рабски ее копирует. Ни то, ни другое не достойно нашей все-таки великой страны. Надо, не кривя душой, оценить должным образом все реальные успехи американцев. И уяснить для себя, в чем именно следует идти другими путями.
Американский характер и “сила вещей”
Чтобы понять другой народ, надо “заглянуть ему в душу”. Более того, надо попытаться мысленно пройти теми путями, какими ему довелось пройти. “Америка постоянно борется за свою душу”, — писал Гуннар Мюрдаль более полувека назад4. Полагаю, что этими словами сказано самое существенное, что может быть сказано обо всей американской истории, прошлой и настоящей.
В наше время многие избегают употреблять понятие “душа народа” как чересчур “расплывчатое”, “туманное”, предпочитая ему другое — “национальный характер”. На самом деле первое понятие более емкое, включающее нечто такое, о чем, как выразился А. К. Толстой, нельзя поведать “на ежедневном языке”. Но так и быть, будем говорить о национальном характере. Не касаясь долгого вопроса о том, как он складывался у американцев, подчеркну два заслуживающих быть отмеченными момента. Во-первых, национальный характер просматривается у них отчетливее, чем, скажем, у европейских народов, у которых он “замутнен” классовыми, региональными и прочими внутренними различиями, более значительными, чем в Америке (нечто до некоторой степени схожее мы видим и в России, где “сословности и условности” всегда значили меньше, чем в Европе); в самом деле, “средний американец” — не просто статистическая величина, но и некоторый культурно-психологический тип, к которому психологически тяготеют все слои населения (по крайней мере так было до недавнего времени).
Во-вторых, национальный характер американцев, каков он есть, в очень значительной мере руководствуется сердечными интуициями; таким образом, мы опять сталкивается с чем-то “туманным”, хотя и вполне определенным.
О том, сколь преданны американцы “обычаям сердца”, писал Токвиль, чья книга “О демократии в Америке”, вероятно, и в следующем столетии останется для американцев зеркалом, в котором они будут изучать самих себя. А вот образец самохарактеристики, притом достаточно типичной. Президент Вудро Вильсон, который впервые по-настоящему “вывел” Америку на мировую арену, говорил в 1919 году: “У нашего народа чистое сердце. У нашего народа правдивое сердце”. И добавил: “Это великая идеалистическая сила в истории”5. Нельзя отнести эти слова на счет некоторых парадных обстоятельств, при которых они были сказаны. Вильсон верил в то, что говорил. И он говорил то, что думали, а в большинстве своем и сейчас продолжают думать рядовые американцы. Правда, философ Уильям Джеймс (Джемс, согласно принятому у нас до сих пор написанию) был на сей счет более строг: сердце у американцев имеет свои темные стороны, “как у всех”; но и Джеймс считал возможным доверять его основным интуициям.
Особое доверие к сердечным интуициям сближает русских и американцев — через голову европейцев? Правда, другие свойства американского характера нас скорее разделяют: это и суховатый пуританский морализм, и уважение к законам, ставшее как бы второй натурой, и паче всего прочего расчетливый индивидуализм традиционной России, правда, не чуждый (а торгово-промышленному сословию так даже очень близкий), но на уровне общественного сознания отторгаемый. В Америке расчетливый индивидуализм стал программой под пером Бенджамина Франклина еще до того, как страна обрела независимость. Франклина у нас знают мало, если не считать его портретов, отпечатанных на стодолларовых купюрах, зато у нас хорошо знают Дейла Карнеги, похоже, ставшего одним из самых читаемых авторов “деловой” России. Карнеги — это Франклин сегодня. Техника налаживания “человеческих отношений”, которую разрабатывает Карнеги в своих книгах, казалось бы, подчинена одной цели — личному успеху, для которого окружающие служат “строительным материалом”. Но вот существенный момент: личный успех, в представлении Карнеги, способствует успеху других. И маленькие психологические хитрости, к которым он советует прибегать, в конечном счете служат общему благу; и не только в силу объективно складывающихся отношений, но и потому, что они исходят или должны исходить от “доброго сердца”. Одно из своих сочинений Карнеги прямо заканчивает строгим предупреждением: “Принципы, изложенные в данной книге, окажутся эффективными только тогда, когда они будут исходить от сердца (разрядка моя. — Ю. К.)”6. Франклин мог бы подписаться под этими словами.
Известно, что больше всего отталкивало русских мыслящих людей в Европе: мещанство. Сосредоточенность на материальных интересах, мелочность, чрезмерная аккуратность во всем. Олицетворение европейца — щедринский “мальчик в штанах”, который больше всего на свете боится огорчить своих родителей. Наверное, похожие мальчики были и в Америке. И все же вряд ли этот тип для нее характерен. На ум приходят совсем иные образы. Том Сойер, который терпеть не может умываться, лезет через забор, где можно воспользоваться калиткой, и никогда не боится ослушаться тети Полли. И Гек Финн, в любой момент готовый бежать из благовоспитанного общества хоть к индейцам, хоть к черту на рога. А ведь именно Том Сойер и Гек Финн, особенно последний, — любимые герои американцев. Аккуратисты, живущие по шаблону, могут вызвать у них одобрение, но отнюдь не глубокие симпатии; другое дело — “отчаянные”, “романтики”, “гоняющиеся за грозой” где-нибудь в прериях.
В. С. Соловьев писал, что всякое существо есть то, что оно любит; наверное, то же самое можно сказать и о целом народе.
В советское время нас кормили Драйзером, американцами заслуженно забытым. Его герой Фрэнк Каупервуд, будучи мальчиком по возрасту, “не хочет быть мальчиком”; он хочет делать деньги и вообще поступать, как поступают самые расчетливые взрослые. Опять же такие мальчики в Америке, наверное, есть. Но думаю, что гораздо больше в этой стране взрослых, сохраняющих некоторое мальчишество.
Если понимать под мещанством сосредоточенность на материальных интересах в ущерб духовным, то Россия — с момента, когда в ней стала угасать вера в потустороннее, — обречена была сделаться мещанской в большей мере, нежели Америка. В 20-е годы явочным порядком такое мещанство успешно пробивало себе дорогу даже в условиях “строящегося социализма”. Один из тогдашних героев Вс. Иванова, между прочим большевик (сам Иванов по официальной терминологии того времени — “попутчик”), следующим образом представлял себе будущее: “Через пятьдесят лет у каждого автомобиль, моторная лодка и прожектор (? — Ю. К.)”. Такая вот “русская мечта”. Потом ее потеснили другие идеалы, советской выделки, хотя и не без участия “старой” русской культуры (представленной отдельными своими “элементами” в принципиально чуждом ей контексте), но их время оказалось относительно недолгим, ибо явились они “миражем на болоте”.
Впрочем, если понимать под мещанством приверженность семейным ценностям и добросовестное исполнение своих обязанностей, то нам его как раз остро не хватает. Но его не хватает сегодня и Америке.
Считается, что русского человека всегда отличала артельность. Но я не уверен, что американцы существенно уступают нам в этом отношении. Приведу авторитетное суждение Жака Маритена, несколько лет прожившего в Соединенных Штатах: “К глубинным характеристикам американского народа следует отнести великодушие и чувство человеческого товарищества (compagnonnage)”7. Один только фактор освоения новых земель в этом плане многое значил: люди продвигались на запад караванами и в продолжение длительного путешествия, как правило, делились всем, чем можно было делиться. По прибытии на место каждая семья строила себе дом сама, но если что ей было не по силам, например, доставлять бревна к месту стройки, ей всегда помогали другие (примечательно, что фильмы-вестерны не только отражают исторический опыт, но и стремятся удержать его и передать по наследству). Эта традиция взаимопомощи была очень сильна в Америке и, конечно, не иссякла в настоящем.
Я отнюдь не задался целью писать апологию американского характера; я лишь нахожу, что американский характер, если взять его в период становления, значительно ближе русскому, чем это часто думают. Почему же в таком случае многое в современной Америке нас (тех по крайней мере, кто ощущает свою связь со “старой” русской культурой) коробит и отталкивает? Здесь мы сталкиваемся с чрезвычайно сложной проблемой. Со времен Ренессанса европейское человечество развязало силы, способные выходить из-под контроля своих создателей. В Америке это ощущается, быть может, острее, чем в Европе. Американцы “не хотели” многих из тех новообразований, которые ныне кажутся неотъемлемыми от американской цивилизации, и лишь уступили “силе вещей”. Одни из этих новообразований они в конечном счете приняли или смирились с ними. Другие не приняли и продолжают им противостоять.
Но тем ценнее для нас американский опыт. Нам ведь еще предстоит пережить некоторые из тех “приключений”, через которые прошли американцы.
Возьмите такое явление, как рационализм, овладевший американским обществом за последние десятилетия. Нет, на сей раз речь идет не о расчетливости в достижении определенных целей, но о чем-то гораздо большем — способе видеть мир. Такой рационализм есть результат экспансии науки, не обошедшей стороною и чисто житейские дела. Вся житейская сфера разложена на “проблемы”, которые можно и нужно решить (считается, что нерешаемых проблем не существует). Рационализм не только обедняет картину мира, не только обедняет язык, но и самого человека делает другим: окруженный четко очерченными, холодными и себетождественными материальными телами, лишенными некоторого сфумато (как бы намекающего на их “задний” смысл), он становится более “деловым”, жестким, а то и жестоким. Но обратим внимание: как свидетельствует область воображаемого, “культура сердца” хоть и отступает, но пока не сдается; то есть американец продолжает жить как бы в двух мирах одновременно — рациональном мире и мире сердечных интуиций. Чтобы заметить это, надо всего лишь “иметь сердце”. Подобное познается подобным.
Не в деньгах счастье
Одно из самых устойчивых заблуждений состоит в том, что американцы будто бы избыточно преданны золотому тельцу. Может быть, денежные расчеты и в самом деле занимают в их жизни слишком большое место, но этот факт должно объяснить, опять-таки, “силою вещей”, а отнюдь не психологией народа. Напротив, чрезмерная расчетливость, меркантилизм всегда встречали в американском народе определенное сопротивление, о котором нельзя сказать, что оно было совершенно бесполезным.
Есть некоторые расхождения между русскими и американцами в их представлениях о бедности и богатстве, но это расхождения в рамках единой христианской цивилизации. Русскому народу было хорошо знакомо великое христианское чувство смирения; оно проявлялось и в бедности. Не дал Бог достатка — ничего, на том свете зачтется. Нищета прочней богатства, а бедный двор по-своему даже краше палат каменных: крыт светом, обнесен ветром, птичкой небесною опет. Гол да наг — перед Богом прав. Богатому хуже: деньги что каменья — тяжело на душу ложатся. И много прочего в таком же духе. У этого истинно христианского чувства была своя оборотная сторона: некоторая (относительная) неряшливость в хозяйственных вопросах. В то же время богатство нередко сопровождалось утратою “излишней” щепетильности: те, кому выпало сорвать золотую щетинку, не считали для себя зазорным “хлестко пожить”, особенно в новые времена.
Американцам, по крайней мере основного, то есть пуританского, корня, искони тоже было знакомо чувство смирения, но проявлялось оно иначе — так, как это предписано Кальвином в его учении о предопределении. Вопрос спасения или гибели каждого отдельного человека заранее решен Высшим судом, и ему лишь остается выслушать приговор, когда придет срок. Но пока каждый обязан трудиться в поте лица — вроде бы на себя и в то же время в буквальном смысле самозабвенно. Успех в этой жизни подает определенную надежду на спасение, но славить Бога должен и тот, кто заведомо осужден!
Такая характерно сектантская напряженность духа не могла не ослабнуть с течением времени. Но закваску новорожденной нации она дала: хорошо известно, в частности, какую роль своеобразная этика пуритан сыграла в развитии капитализма в Америке. Заметим, что вместе с трудолюбием они передали своим потомкам и опасливое отношение к богатству. Стремление к богатству, особенно нажитому коммерческим путем, у американцев считалось скорее предосудительным. Другое дело достаток; Франклин писал, что достаток — это щит против искушений, а богатство, напротив, множит искушения и ослабляет защиту от них. Уже в начале XIX века, когда стали появляться крупные состояния, президент Джон Куинси Адамс (не путать с другим президентом — Джоном Адамсом) гремел против богатых, своими наклонностями и своим образом жизни подрывающих добродетели, коими держится республиканский строй. Еще громче и еще решительнее это делал президент Эндрю Джексон: богатство рождает всевозможные пороки и надо выбирать между служением Господу и служением золотому тельцу. Между тем логика развития капитализма сама по себе неизбежно вела к усилению имущественного расслоения в обществе. Республиканский морализм, таким образом, имел перед собою постоянно возрастающего в силе противника.
Токвиль, посетивший Соединенные Штаты уже в последжексонианский период, спрашивал: неужели демократия, одолевшая королей и феодалов, не справится с капиталистами? Вопрос звучал как призыв.
Знаменитую “золотую лихорадку” (связанную с открытием золота в Калифорнии в 1848 году) сегодня облекает некоторый романтический флёр. А современники называли ее национальной трагедией: дама Фортуна, г-жа Удача, вскружила головы множеству людей, ради быстрого обогащения забывших (или казалось, что забывших) обо всем на свете. Но это были еще только цветочки. Впереди была эпоха, ставшая тяжелым испытанием для американской демократии, пожалуй, самым тяжелым за всю ее историю, — так называемый “позолоченный век” (примерно последняя четверть XIX века и начало XX).
Вступив в индустриальную фазу, открывшую перед ним неограниченные возможности, капитализм постарался сбросить морально-психологические путы, сковывавшие его движения. Закон прибыли пробивал себе дорогу, все расталкивая на своем пути. Это было время, когда легко сколачивались громадные состояния, зачастую самым предосудительным образом — биржевой игрой, ведущейся во вред производительному капиталу, созданием фиктивных акционерных обществ, продажей привилегий, добытых за гроши путем подкупа начальствующих лиц. Богатые перестали скромничать, напротив, выставляли напоказ свое богатство: стали ездить в роскошных каретах с ливрейными лакеями на запятках, носить бриллианты и строить такие дворцы, о каких Америка в прежние времена понятия не имела. Казалось, что стало возможным все купить, включая полицию, судей и политических деятелей. В больших городах, таких, как Нью-Йорк и Чикаго, возымел силу криминальный элемент, отчасти сросшийся с капиталом и, с другой стороны, с государственными структурами.
Знакомая картина? Безусловно, то, что происходит в сегодняшней России, типологически имеет с нею много общего. Хотя и отличия очень существенны. Америка в ту эпоху переживала бурный экономический рост, и ее тогдашние “бароны-разбойники” не только разбойничали, но и строили заводы, фабрики, железные дороги, тем самым создавая множество новых рабочих мест и в целом значительно повышая материальное благополучие нации. Это одна сторона дела. А вот другая. Не в пример нашему постсоциалистическому и деморализованному обществу, американцы сохраняли энергию морального противостояния капитализму — но противостояния разумного, ставящего целью не сокрушить его, но обуздать и заставить служить интересам нации в целом.
Два поколения писателей, журналистов, ораторов (включая сюда политических деятелей, владевших оружием письменного и устного слова), прозванных “разгребателями грязи”, оставили не Бог весть какой заметный след в истории американской словесности, зато совершили нечто, пожалуй, еще более важное — помогли Америке сохранить ее моральный тонус. Они не призывали экспроприировать богатых, у них были другие цели: во-первых, юридически оградить интересы бедных и, во-вторых, пристыдить богатых (как показывает исторический опыт со времен античности, это отнюдь не безнадежное дело), пробудить в них христианские и гражданские чувства. Конгрессмен М. Хоуард, автор имевшей широкий резонанс книги “Если бы Христос явился в Конгресс” (1894)8, следующим образом отчеканил свое представление о должном, которое все “разгребатели грязи” могли бы, наверное, разделить: “Капитал — слуга народа”. Радетелям о мамоне и собственном кармане не место в американском обществе, настаивал Хоуард; они — изменники Делу, начатому отцами основателями.
Бросается в глаза, что, исполнившись антикапиталистического пафоса, Америка не отшатнулась к социализму, и в этом ее глубокое отличие от Европы, в частности от России. Американцы судили капитализм на языке христианства и республиканской политии, а не на языке социального прожектерства. Социалистические и коммунистические идеи не получили в Соединенных Штатах сколько-нибудь широкого распространения, несмотря на то что недостатка в пропагандных усилиях там не ощущалось. К примеру, журнал “Коммунист” начал выходить в этой стране еще в 1868 году, задолго до того, как появился на свет его российский тезка. Более того, именно в Америке были осуществлены первые коммунистические “пробы”: еще в 30-х годах прошлого века там стали возникать отдельно взятые коммуны, о которых Эмерсон писал (в 1844 году), что они становятся “прибежищем для тех, кому не повезло”. Впрочем, коренных американцев трудно было соблазнить коммунами; как правило, участие в них принимали европейские иммигранты. В более позднее время (70 — 80-е годы) среди коммунаров появились русские, специально с этой целью приезжавшие в Америку; некоторые коммуны были даже основаны русскими. Американские фермеры смотрели на своих “красных” соседей как на придурков, хотя относились к ним вполне терпимо при условии, что те не практиковали “свободную любовь”.
Заметим, что в 20-х годах нашего века русские крестьяне в своей основной массе подобным же образом оставались равнодушны к коммунистическим приманкам: процент коммунаров (колхозников) среди них, несмотря на все усилия властей, колебался на весьма низком уровне — вплоть до “великого перелома”. Нормальный человеческий инстинкт подсказывал им, что каждой семье подобает иметь на земле свое гнездо, а оно не может быть достаточно прочным без некоторой собственности. Этот естественный индивидуализм нисколько не противоречит артельности, которою известен русский мужик (и на которой пытались и пытаются спекулировать идеологи колхозной собственности); напротив, одно другое дополняет.
Но, конечно, в американском народе частная собственность укоренена глубже — и соответственно противоядие против социалистических идей сильнее. Восприимчивость к “красному хмелю” проявила лишь определенная (меньшая, однако, чем в Европе) часть интеллигенции. Особенно в 30-е годы, пока тянулась Великая депрессия и кое-кому стало казаться, что капитализм исчерпал свои возможности. Некоторое опьянение “красным хмелем” испытали и крупные писатели: Дос Пассос, Стейнбек. В романе Стейнбека “Гроздья гнева” взгляд на “буржуев” — почти соцреалистический. Вот портрет типичного “буржуя”: “...жирный такой, квелый, глаза щелочками, остервенелые, а рот дырой... Смерти боится!” Так могли бы написать Горький или Маяковский. С другой стороны, бедняки, а в данном случае это разоренные оклахомские фермеры, пожалуй, чересчур выделены розовой краской: нравственно они несопоставимо выше тех, кто согнал их с земли; богатство, говорит один из них, нужно тому, у кого душа нищая, а им, фермерам, нужна только справедливость. Что, однако, важно: мы не найдем здесь призывов “грабить награбленное”; у фермеров психология собственников, и справедливость, которой они добиваются, — та, что предусмотрена американским законом и традициями.
Пройдет еще немного времени — и бедняки в Америке практически исчезнут. Экономический рывок 40-х годов позволил американскому народу в целом достичь невиданного доселе уровня материального благосостояния. Капитализм посрамил своих коммунистических критиков: сохранив значительные различия в доходах, он настолько улучшил положение низших слоев, что с этой стороны его трудно стало как-то уязвить. Подтвердилось сказанное некогда С. Н. Булгаковым, а именно, что в экономической жизни есть вещи, непосредственный вред от которых в дальнейшем может быть превышен приносимой ими пользой.
А с другой стороны, капитализм был укрощен и пристыжен. Право и мораль (конкретно в части отношения к бедности и богатству) в основном отстояли свои позиции. Национальная мифология отвергла культ золотого тельца; деньги для американцев — скорее предмет необходимости, чем поклонения. Еще допустимо мечтать о богатстве, но не о том, как и на что оно будет тратиться (по крайней мере так обстоит дело в голливудских фильмах 30 — 50-х годов). Подобно тому как ухаживания предполагают нечто телесное, но на язык оно не просится и в кадр не попадает, так и охота за богатством может быть романтизирована, но лишь до момента, когда наступает консумация. Нашли горшок с золотом, который долго искали, — отлично, но на этом конец фильма. А ускользнул он в последний момент — и то хорошо, на душе свободней. Мотив beati possidentes (“счастливых обладающих”) выражен слабо (речь идет, повторю, о Голливуде классического периода, но и в дальнейшим никаких радикальных перемен в этом смысле не произошло). Чтобы богатый был представлен как положительный персонаж, надо, во-первых, чтобы он сам достиг богатства, а не получил его по наследству, и во-вторых, чтобы было известно, что достиг он его честным путем. В тоже время отрицательные (точнее, так называемые “плохие/хорошие”) персонажи, выбравшие в жизни заведомо нечестные пути, могут демонстрировать красивое бескорыстие; для примера: в известном фильме “Буч Кэссиди и Санденс Кид” гангстеры, вроде бы сделавшие своей профессией изымание чужих денег, откровенно смеются над ними, коль скоро они попадают в их руки, так же как и обслуживающая эту пару проститутка.
Конечно, это кино, но дистанция между ним и жизнью не столь уж значительна. Иначе не случилось бы то, что случилось в конце 60-х годов, когда множество выходцев из обеспеченных семей вдруг отправились бродить по белу свету с сумой — большинство, правда, на время, но кое-кто и бесповоротно.
В Америке нет психологических барьеров между богатыми и бедными, какие еще недавно были в Европе, да, пожалуй, и сейчас еще не совсем стерлись (а стерлись, возможно, как раз в той мере, в какой Европа американизирована). Бедняк обладает таким же чувством внутреннего достоинства, как и богач; тем более, что “путь наверх” для первого всегда открыт. Как и для последнего — “путь вниз”: даже в отсутствие склонности к риску, таящей в себе угрозу банкротства, большие состояния неизбежно истаивают со сменой поколений (из-за огромных налогов на наследство). В советские годы нас кормили рассказами о династиях “некоронованных королей” Америки, но где сейчас все эти Морганы и Вандерльбильды? Даже Рокфеллеры, недавно еще маячившие на первом плане, ушли куда-то в тень. А верхние строчки в списке самых богатых занимают новички, “сами себя сделавшие”.
Значительное единомыслие-единочувствие американцев и проистекающее отсюда доверие к другому, ближнему или дальнему, — один из главных “секретов успеха” Америки, в частности в экономическом плане. Ильф и Петров, открывая “одноэтажную Америку” 30-х, сделали выразительную зарисовку с натуры: два впервые встретившихся американца, наскоро познакомившись, начинают со страшной силой хлопать друг друга по спинам и при этом бешено хохочут. Слегка окарикатурено, но схвачено — серьезно-большое в малом. Один как бы говорит другому: “Мы впервые видимся, но я знаю, что ты такой же славный парень, как и я, и хоть стараемся мы каждый для себя, но делаем одно общее дело, которое растет и ширится, и так будет всегда или, во всяком случае, очень долго”. Эта вера в общую счастливую звезду заметно сократилась за последние десятилетия, но, пока что-то от нее еще остается, Америка будет чувствовать себя более или менее “на коне”.
Мы недавно заново открыли для себя то, что было известно еще экономистам XVIII века: эгоизм может быть творческой силой в экономической жизни. Но это только половина дела. Другую половину, обеспечивающую успех, составляет морально-психологический климат в обществе: чтобы система работала, нужен определенный уровень взаимопонимания и взаимодоверия. Адам Смит, веривший в могущество Невидимой руки, гармонизирующей хаотические движения рынка, не считал нужным задерживаться на второй компоненте: он принимал как сам собою разумеющийся тот уровень “порядочности”, какой существовал в его время и какой на самом деле был производным от психологических уз, созданных христианством на протяжении веков (С. Л. Франк писал, что всякое взаимное доверие, всякий обмен услуг уже предполагает внутреннее исконное наличие соборного начала). Лишь постепенное иссякание “само собой разумеющегося” заставило всерьез задуматься об этой стороне дела.
В советском обществе на определенном этапе его истории был достигнут довольно высокий уровень взаимодоверия, другой вопрос, каким путем. Искони принятый в России принцип опознания другого: кладешь крест по-нашему, значит, “свой” — претерпел серию грубых подмен и был существенно укорочен исключением всех “социально чуждых”. Обманы стали раскрываться уже в позднесоветское время, так что с “перестройкой” в считанные годы ос б ыпалась вся структура человеческих отношений. В силу инерции остатки ее сохраняются в сознании старших поколений. Зато молодежь, как свидетельствуют социологи (и как без них видно невооруженным глазом), испытывает минимальное доверие или скорее максимальное недоверие к незнакомым другим. (И вездесущая мафиозность есть, в частности, реакция на отсутствие такого рода доверия, попытка заместить его выборочным сообществом с криминальным оттенком.) Возобновить этот необходимый “ресурс” будет очень непросто.
...Капитализм принес Америке изобилие, но изобилие вынудило ее заново прочувствовать старую пословицу “Не в деньгах счастье”. Пишет коллективный автор (Р. Белла и другие) книги “Обычаи сердца” (интеллектуальный бестселлер 1985 года и, при переиздании, 1996-го): “Нас считают богатым народом... Но истина нашего удела есть бедность. На этой земле мы в конечном счете беззащитны. Все наши пожитки не сделали нас счастливыми”9. Далеко не все американцы так думают, но чувствует, судя по многим признакам, большинство.
Заново приступив к строительству капитализма, отнесемся к столь многотрудному делу с надлежащей серьезностью, но и без чрезмерных ожиданий. Ведь капитализм — это всего лишь экономический строй.
С “ти-ай” в котомке
Если американцы в конечном счете приняли развитой капитализм психологически, предварительно сделав его более или менее “домашним”, то с сопутствующим ему урбанизмом дело обстоит сложнее.
Америка изначально была настроена резко антиурбанистически. В этом отношении, как и во многих других, она не хотела повторять Европу: большие европейские города являли собой примеры того, как не надо строить человеческое общежитие. Отталкивал, в частности, контраст между богатыми кварталами и трущобами — ни того, ни другого американцы допустить у себя не желали. Трущобы, мало того что их обитатели не могли вести жизнь, достойную свободных граждан, были еще и тем опасны, что время от времени их охватывало революционное безумие, как это показал особенно опыт Франции. Американцам претило видеть у себя санкюлотов, под лозунгами демократии способных только разрушать.
Увы, по мере того как росли американские города, они все больше стали походить на европейские. Правда, трущобами в европейском понимании они не обросли и санкюлоты в них не завелись, но некоторые характерные черты городской жизни, которых строители американской демократии надеялись избежать, проявились в них с той же непреложностью, что и в Старом Свете: скопление большого количества людей в одном месте создавало атмосферу всеобщей анонимности, благоприятной для разного рода своекорыстных побуждений и снисходительной к пороку. А преступность, по крайней мере в некоторых городах, и прежде всего в Нью-Йорке и Чикаго, достигла таких масштабов, что оставила далеко позади Европу.
Америка республиканская и христианская не желала мириться с таким положением вещей. Mainstream (основной поток) американской жизни тек своим ходом и всячески стремился увлечь в своем течении города. Евангелисты устраивали “крестовые походы” против того, что они считали, и не без оснований, явлениями городского упадка. Отряды Армии Спасения оказывали разностороннюю помощь материально и духовно обездоленным, брали под свое крыло сирот и т. д. Подобные усилия хоть и не были напрасными, но ожидаемого эффекта не приносили. Урбанизм крепчал и все больше “выходил из-под контроля”. Известный лютеранский проповедник Джон Тодд в конце прошлого века посетовал: “Вы опускаете соль в воду и скоро замечаете, что пытались посолить реку: всё куда-то уносит”10.
Впрочем, отношение к городу не было однозначно негативным. По мере того как города росли и ширились, в урбанизме открывалась своя “поэзия и правда”. Чтобы усмотреть нечто поэтическое, например, в “каменных джунглях” Нью-Йорка, понадобилось особое устройство глаза, ставшее доступным только людям XX века; замечу, однако, что из тех, кто склонен был опоэтизировать Нью-Йорк, далеко не все соглашались жить в этом странном городе. Правда же состоит в том, что скопление множества людей создает новое качество человеческих взаимоотношений, в котором есть не только негативные, но и позитивные моменты. На деле человечество есть именно множество, и, значит, у живущих в городе (особенно в большом и космополитическом городе) складывается более полное представление о нем, чем у тех, кто живет в глуши; оборотная сторона этого преимущественного в указанном смысле положения — неизбежная поверхностность отношений многих со многими. Подобным же образом в городе открывается несравненно большее пространство личной свободы, но оно же уставлено и всевозможными ловушками. Одна из них в том, что здесь складывается новый тип конформизма, обращающий свободу в ее противоположность; в числе первых это подметил К. И. Чуковский в статье 1908 года “Нат Пинкертон”: американские города — “многие миллионы людей, сплошных, одинаковых, живущих сплошным, одинаковым бытом”. Утрата индивидуальности в условиях города нашла отражение (несколько позднее) в литературе и кино: вспомним “Главную улицу” Синклера Льюиса и “Новые времена” Чаплина.
Этот предельно краткий экскурс в историю понадобился здесь не затем лишь, чтобы показать, как американцы “впустили” к себе урбанизм — “через не хочу”. Я к тому веду, что мощная антиурбанистическая традиция отнюдь не угасла в Америке с течением времени; напротив, она получила новый импульс примерно со второй половины 60-х годов, когда урбанизм, казалось бы, торжествовал свою окончательную победу. К тому времени впервые в истории, как на это указал И. Кристол (“В конце II тысячелетия”. М., 1996), на пространствах Евро-Америки возникла урбанистическая цивилизация. Если до сих пор город и провинция (термины Кристола) были как бы двумя антителами в рамках одной цивилизации, то теперь разница между ними почти стерлась в том смысле, что ни в образе жизни, ни в ментальности не осталось больших принципиальных отличий. Но поскольку речь идет об Америке, очень скоро выяснилось, что побежденные не добиты, что они сумели занять новые позиции и переходят в контрнаступление.[/size][/b]