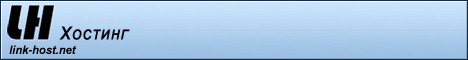У меня был брат, старше меня на семь лет. Он обучался ремеслу отца. Чрезмерная любовь ко мне приводила к тому, что на него меньше обращали внимания, чего я совершенно не могу одобрить. Это пренебрежение сказалось на его воспитании. Он начал вести распутную жизнь, не достигнув еще возраста, когда можно стать настоящим распутником. Его устроили к другому хозяину, но он продолжал потихоньку исчезать, как это было и в отцовском доме. Я его почти не видел и, можно сказать, едва был с ним знаком; тем не менее я любил его нежно, и он меня любил, насколько может любить кого-нибудь такой повеса. Помню, как один раз, когда разгневанный отец беспощадно его наказывал, я стремительно бросился на выручку и крепко обнял брата. Я укрыл его своим телом, получая удары, предназначенные ему, и так настойчиво подставлял свою спину, что отец наконец сжалился*, оттого ли, что был обезоружен моими криками и слезами, или оттого, что не хотел наказывать меня больше, чем его. В конце концов мой брат совсем сбился с пути: убежал из дому и совершенно исчез. Через некоторое время мы узнали, что он в Германии*. Он ни разу не написал. С гех пор о нем не было никаких вестей, и вот каким образом я стал единственным сыном. Если этого бедного мальчика воспитывали небрежно, то нельзя сказать того же обо мне; за детьми короля не могли бы ухаживать с большим усердием, чем ухаживали за мной в первые годы моей жизни, когда все окружающие обожали меня и, что случается гораздо реже, обращались со мной, как с ребенком любимым, но отнюдь не балуемым. Никогда, ни разу до моего ухода из родительского дома, не позволили мне бегать по улице с другими детьми; никогда не приходилось подавлять во мне или удовлетворять ни одной из тех вздорных причуд, в которых обвиняют природу, но которые порождает воспитание. У меня были недостатки моего возраста: я был болтун, лакомка, иногда лгун. Я мог стащить фрукты, конфеты, снедь, но никогда мне не доставляло удовольствия делать зло, вред, огорчать окружающих, мучить бедных животных. Вспоминаю, однако, что я помочился однажды в кастрюлю одной из наших соседок, мадам Кло, в то время как она была па проповеди. Признаюсь даже, что это воспоминание до сих пор вызывает у меня смех, потому что мадам Кло, женщина, в сущности, добрая, была все-таки самая ворчливая старуха, какую я только знал. Вот краткая и правдивая история всех моих детских проступков. Как мог бы я сделаться злым, имея перед глазами только примеры нежности и видя лучших людей на свете вокруг себя? Мой отец, моя тетка, моя кормилица, мои родственники, наши друзья, наши соседи — все окружавшие меня, по правде говоря, не потакали мне, но любили меня, и я тоже любил их. Для моих капризов было так мало поводов, и так редко им давали отпор, что они и не приходили мне в голову. Могу поклясться, что до моего порабощения хозяину я не знал, что такое прихоть. Кроме того времени, когда я читал или писал возле отца, и того, когда няня водила меня гулять, я был постоянно с тетей, глядел, как она вышивает, слушал, как она поет, сидя или стоя подле нее; и я был доволен. Ее веселость, ее нежность, ее приятное лицо оставили во мне такое сильное впечатление, что я и теперь вижу выражение ее лица, взгляд, фигуру, помню ее ласковые слова; я мог бы описать, как она была одета и причесана, не забыв даже двух черных локонов на висках, по моде того времени. Я уверен, что ей обязан я склонностью или, вернее, страстью к музыке,— страстью, вполне развившейся во мне только значительно позже. Она знала невероятное количество арий и песен и напевала их очень нежным голосом. Ясность души этой превосходной девушки отгоняла от нее и от всех, кто ее окружал, задумчивость и грусть. Прелесть ее пения была так сильна, что несколько ее песен навсегда остались у меня в памяти, а некоторые, совершенно забытые с самого детства, теперь, когда я потерял ее, по мере того как я старею, возникают вновь с невыразимым очарованием. Кто сказал бы, что я, старый ворчун, снедаемый заботами и огорчениями, иной раз ловлю себя на том, что плачу, как ребенок, бормоча эти песенки голосом уже разбитым и дрожащим? Особенно ясно вспоминается мне мотив одной из песен, но половина слов упорно отказывается уступить усилиям моей памяти, хотя я смутно припоминаю рифмы. Вот начало и то, что я мог припомнить из остального: Тирсис, свирелью Не зови меня под вяз В поздний час,— Ведь звонкой трелью В селе ты выдал нас. .......................похмелью ....................... греха .........................пастуха. Горести влечет за собой веселье1. Я стараюсь постичь, в чем заключается для меня нежное очарование этой песни; странно и непонятно, но я не в силах допеть ее до конца без того, чтобы слезы не остановили меня. Сотни раз я собирался написать в Париж и попросить, чтобы отыскали остальные слова, если есть еще кто-нибудь, кто их помнит. Но я почти уверен, что удовольствие, которое я испытываю, вспоминая эту песню, отчасти поблекнет, если у меня будут доказательства, что и другие, кроме тети Сюзон, пели ее. Таковы были первые мои привязанности на пороге жизни, так начало складываться и проявляться мое сердце, в одно и то же время такое гордое и такое нежное, мой характер, жен-етвенный, но тем не менее неукротимый, который всегда склонялся то к слабости, то к мужеству, то к мягкости, то к стойкости, до конца моей жизни ставил меня в противоречия с самим собой и приводил к тому, что воздержание и наслаждение, удовольствие и благоразумие одинаково ускользали от меня. 1 Перевод стихотворных отрывков в тексте принадлежит А. Мушниковой. Это воспитание было прервано случаем, последствия которого повлияли на всю мою жизнь. У моего отца произошло столкновение с некиим господином Готъе, французским капитаном, имевшим родственников среди членов совета, У этого Готье, человека наглого и подлого, пошла носом кровь, и он из мести обвинил моего отца, будто тот обнажил шпагу в пределах города. Отца хотели посадить в тюрьму, но он заупрямился, требуя, чтобы обвинитель, согласно закону, был заключен вместе с ним; не добившись этого, он предпочел уехать из Женевы и на всю жизнь оставить родину, чем уступить в таком деле, в котором, как ему казалось, были затронуты его честь и свобода. Я остался под опекой моего дяди Бернара, служившего тогда в Женевской крепости. Старшая дочь его умерла, но у него был сын одних лет со мной. Обоих нас отдали в Боссе*, на пансион к священнику Ламберсье, чтобы обучить там, наряду с латынью, всякой ненужной дребедени, присоединяемой к ней под названием образования. Два года, проведенные в деревне, немного смягчили мою римскую суровость и вернули меня к детству. В Женеве, где меня ни к чему не принуждали, я любил занятия; чтение было почти единственным моим развлечением; в Боссе работа заставила меня полюбить игры, служившие отдыхом от нее. Деревенская жизнь была так нова для меня, что я не уставал наслаждаться ею. Я почувствовал такое сильное расположение к ней, что оно уже никогда не могло угаснуть. Воспоминание о счастливых днях сельской жизни всегда заставляло меня жалеть об ее удовольствиях вплоть до того времени, когда я вернулся к ней. Г-н Ламберсье был человек очень разумный; не пренебрегая нашим образованием, он вместе с тем не обременял нас чрезмерными занятиями.
Доказательством его умелого руководства служит то, что, несмотря на мою нелюбовь к принуждению, я никогда не вспоминал с отвращением о часах моих занятий, и если я усвоил у него не особенно много, то усвоенному научился без труда и ничего из этого не забыл. Простота этой сельской жизни принесла мне неоценимое благо, открыв мое сердце дружбе. До сих пор мне были знакомы только чувства возвышенные, но воображаемые. Привычка жить мирно бок о бок тесно связала меня с моим двоюродным братом Бернаром. Вскоре я стал питать к нему чувства более нежные, чем к своему брату, и сохранил их навсегда Это был высокий мальчик, очень худой, очень хилый и настолько же добрый сердцем, насколько слабый телом; он не слишком злоупотреблял предпочтением, которое оказывали ему в доме как сыну моего опекуна. Наши занятия, развлечения, вкусы